
Скрипач и дирижер Сергей Стадлер о живых концертах, современной публике и нематериальной сфере в его профессии
Скрипач-виртуоз, дирижер, народный артист России Сергей Стадлер
Известность к Сергею Стадлеру пришла очень рано — Ленинградскую консерваторию он закончил экстерном за 3,5 года, потому что, уже когда учился, у него образовался весьма плотный концертный график. В какой-то момент он давал по 160 концертов в год! Но Стадлер не ограничился яркой сольной карьерой – он создал себе еще один музыкальный мир, занявшись дирижированием. Хотя эта история началась для него внезапно — в январе 1988 г. он как солист выступил с оркестром без дирижера: за два дня до концерта скончался дирижер Евгений Мравинский. Сейчас сольных концертов меньше: дирижерское дело требует больших эмоциональных и физических затрат.
А во времена социального дистанцирования, считает Стадлер, невозможно ни то ни другое.
– Из-за коронавируса живых концертов нет, многие выступления перешли в онлайн. Как вы провели эти два месяца и как относитесь к классической музыке онлайн?
– Онлайн не может заменить живой концерт. Записи давно есть, например в YouTube, они не связаны с коронавирусом и эпидемией. Очень интересно и нужно – можно посмотреть, кто, как и где играет, как Клаудио Аббадо дирижировал симфонии Малера. Но перевести в онлайн деятельность музыканта нельзя. Тем более оркестра. Так кажется только людям, которые от музыкального искусства далеки.
Поэтому нельзя сказать, что все ушло в онлайн, просто пока ничего не происходит. У нас была идея что-то сделать, мы рассуждали, что это все-таки лучше, чем ничего. Но быстро стало ясно, что это невозможно, потому что надо сесть вместе и играть. Мы ждем, когда эпидемия закончится. Как, собственно, и все артисты, и все театры.
– Вы как Серджу Челибидаке, который считал, что музыка не живьем — это не музыка?
– Не совсем. Существует два типа профессионального музыкального исполнительства — выступление (концерт, спектакль, перформанс и т. д.) и запись. Разные виды деятельности.
Запись — когда устанавливается специальная аппаратура, музыканты приходят в студию, имеют возможность сыграть много раз. При записи есть монтаж, звукорежиссер становится не менее важным персонажем, чем исполнитель. И запись рассчитана на то, что ее можно много раз послушать, поэтому к аппаратуре предъявляются очень серьезные критерии качества.
Родился 20 мая 1962 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградскую консерваторию
1982 г.
выигрывает первую премию и золотую медаль на конкурсе им П. И. Чайковского
1995 г.
организатор фестиваля «Скрипка Паганини в Эрмитаже»
2007 г.
начинает преподавать в Московской консерватории
2008 г.
ректор Санкт-Петербургской консерватории
2013 г.
художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга
А концерт — это в том числе взаимодействие музыкантов с публикой. В таком случае запись просто бледное отражение того, что происходило в в зале. И она никогда не заменит концерта. Поэтому люди ходят и будут ходить на живые концерты.
И еще момент. Чем интереснее музыкант, тем меньше от него остается на записи. Человек достаточно скромного таланта, который многого добился большим трудом, на записи потеряет очень мало. А очень интересные, глубокие, большие исполнители на записи выглядят совсем иначе, чем вживую. Потому что запись не передает самого главного — настоящего мастерства, энергии, эмоциональных высот. Записи можно сделать, но в том случае, если человек записывается в студии специально.
– Но вы не опасаетесь, что под давлением новых обстоятельств концертные залы или Министерство культуры будут все больше и больше настаивать на онлайне? Музеи уже получили указание увеличить число виртуальных экскурсий.
– Сейчас очень популярны эти разговоры, но онлайн не может заменить все. Вы не можете пообедать онлайн. Ничто не заменит живого посещения Эрмитажа. Может быть, для человека, который в Эрмитаже никогда не был, посмотреть экскурсию лучше, чем ничего. Но для истинного любителя живописи это не замена. Поэтому мы просто ждем, потому что пока все идеи, как работать после карантина, очень расплывчаты. Даже те люди, которые призваны разрешить эти вопросы, находятся в растерянности и не понимают, как что регулировать. Например, можно рассаживать людей в зале в шахматном порядке или уменьшать количество кресел. Это, наверное, лучше, чем не работать совсем, и позволит заработать хоть что-то. Но финансовый критерий не критерий творчества. А вот если реализовывать такие смешные вещи, как, например, музыкантов в оркестре рассаживать через полтора метра друг от друга, то это невозможно совсем. Так нельзя играть концерт. Оркестранты должны сидеть рядом. Мы надеемся, что люди, которые призваны этот вопрос решить, прислушаются к мнению серьезных профессионалов.
Содержание
«Скрипач — это всегда выбор родителей»
– Был у вас шанс не стать музыкантом?
– Нет. Я родился в семье музыкантов, и стать музыкантом для меня было само собой разумеющимся. Ребенком я считал, что все люди играют на каком-то инструменте.
– Наверняка вам родители скрипку выбрали?
– Естественно. Чтобы стать профессиональным скрипачом, нужно начать заниматься в пять лет. Раньше, может быть, не стоит, но позже уже опоздаешь. В 8–9 лет, может быть, уже и не стоит начинать. Поэтому скрипач всегда выбор родителей. Профессия скрипача очень трудная, связанная с огромными затратами. Этой профессии посвящается вся жизнь, конечно совершенно оторванная от реальности. Становиться профессиональным музыкантом надо только тем, кто не может им не стать.
– Как же это понять в 5–6 лет? Или как родителям понять?
– Поэтому кроме решения родителей это еще и ответственность родителей. Мне кажется, что в родительские обязанности в том числе входит увидеть и распознать талант и желание своего ребенка.
– То есть скрипка — это общий подвиг ребенка и родителей?
– Для тех, кто становится успешен, всегда.
– У вас сразу было желание заниматься или прошли через сопротивление?
– Нет, сопротивления не было. Мне всегда нравилось. Я в этом смысле с музыкой живу в полной гармонии. В пять лет я стал с отцом заниматься скрипкой. А потом у меня появилась еще одна профессия, совсем другая — дирижирование. И сейчас я живу в двух мирах.
– Вы помните ваши ощущения от триумфа на Конкурсе Чайковского? Они поменяли ваши взгляды на жизнь, на себя самого?
– Нет, взгляды на жизнь и на себя самого совсем не поменяли. Моя большая карьера началась немножко раньше. До Конкурса Чайковского я стал лауреатом Конкурса Сибелиуса, а еще раньше — Конкурса Маргариты Лонг и Жака Тибо в Париже. Но в широком смысле — да, серьезная карьера пошла после Конкурса Чайковского.
В мое время это был практически единственный путь на большую концертную эстраду. Сейчас есть другие, мы знаем больших артистов, которые не участвовали в международных конкурсах. Но я до сих пор считаю, что путь через международный конкурс самый честный. В мое время Конкурс Чайковского для российского скрипача был, наверное, самым значительным и трудным в мире. Победу в нем можно сравнить с золотой медалью Олимпийских игр. И хотя все конкурсы живут по спортивным законам, т. е. они не то, что музыкант будет делать потом в жизни, но они очень важны в период становления – в своем роде как проверка характера.
Сергей Стадлер на VII Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, 1982 г.
– А сейчас, когда тот же Конкурс Чайковского утратил прежние позиции, они по-прежнему остаются важным инструментом глобальной карьеры?
– Конкурсы, конечно, во многом потеряли свое значение. Конкурс Чайковского мы пытаемся возрождать уже с тех позиций, которые есть сейчас. Хотя я, честно говоря, не понимаю, почему его довели до такого состояния, что надо возрождать. Можно было просто поддерживать — не было войны, не было пандемии. Но это вообще наш стиль: сначала долго смотреть, как что-то разрушается, а потом пытаться восстанавливать и везде говорить, что мы попробуем дотянуться до того, что было раньше. Но это к слову.
Конкурсы утратили важность по разным причинам. Я как-то узнавал – в прошлом году провели 470 скрипичных конкурсов. Чудная цифра. Каждый день, а по воскресеньям два раза в день кто-то получает первую премию. Даже имена победителей прочитать не успеешь, не то что послушать. Это, конечно, тоже одна из причин упадка — в 1982 г. победителей знала как минимум вся страна. А сейчас даже люди, очень близкие к музыке и интересующиеся Конкурсом Чайковского, вряд ли смогут назвать победителей.
«Большой солист всегда исключение»
– Как устроено финансовое обеспечение молодого скрипача? Заниматься скрипкой — это ведь значительные затраты, инструмент дорогой и т. д. Зарабатывать специальностью не сразу возможно. Как было у вас?
– Я родился в СССР, где была очень четко выстроенная система музыкального образования. Сначала школа-десятилетка при консерватории для особо одаренных детей, аналогичная московской ЦМШ. Она всегда отличалась от остальных музыкальных школ тем, что туда родители приводили детей, которых они видели профессиональными музыкантами. После десятилетки все шли в консерваторию, причем чаще всего поступали. И еще пять лет в консерватории. Дальше – профессиональный путь, исключений было очень-очень мало. Кстати, я был исключением, я закончил консерваторию экстерном за 3,5 года. Так вот в то время путь, в том числе и финансовый, был достаточно четкий. А сейчас, конечно, мы все знаем, что почти все студенты вынуждены работать.
– Но работают музыкантами?
– Да, конечно. Потому что чего-то достичь в этой профессии можно, только если ты ею живешь. А если ты немного играешь на скрипке, а потом работаешь в автосервисе, то и результат соответствующий.
Но в любом случае все работают – в оркестрах, играют концерты или то, что называется халтурой. И это, к сожалению, очень сильно отражается на качестве игры наших оркестров. Плюс у молодежи сохранилось, на мой взгляд, негативное качество — со времен моей молодости родители продолжают в своих детях видеть Ойстрахов и Гилельсов. Такое проявление имперского мышления, когда воспитывается большой скрипач, большой лауреат. И если что-то не получалось, то это большая трагедия и человек сначала долго лежит лицом к стене, а потом садится в оркестр с чувством поломанной судьбы и неудачи.
Но большой солист – это всегда исключение. Его, что называется, с молодости видно за версту. Хотя и не редкость, когда из тех, кто подавал большие надежды, не получается большого артиста. Солист – это помимо исключительно профессиональных вещей еще комплекс всего: и характер, и судьба, и удача. Но все равно для многих из тех, про кого было ясно, что сольной большой жизни в искусстве не получится, сесть в оркестр — это ступень вниз. Хотя для основной массы профессиональных музыкантов (играющих на струнных, духовых инструментах, не берем пианистов — они особая история) оркестр и есть основной путь.
– Человек уже рождается с нужными для солиста качествами или их можно воспитать?
– Можно воспитать. И таких примеров, особенно в наше время, масса. Потому что сейчас стали меньше ценить профессионализм и талант, но все чаще относятся к музыке как к развлекательному процессу. Но для меня человек без таланта от рождения или от Бога все-таки менее интересен. Другое дело, если человеку много дано, то развивать талант — это тоже определенный труд. Талант без работы и без характера — это только половина дела. Почему я и говорю, что артист — это комплекс.
– А для вашего материального положения Конкурс Чайковского тоже был границей? После него вы стали хорошо зарабатывать и перестали испытывать материальные сложности или как-то это по-другому устроилось?
– У меня все шло постепенно. Но гонорары с талантом и мастерством не всегда связаны напрямую. И если человек очень любит деньги, то ему надо идти работать в банк, а не играть на скрипке. Хотя, конечно, хочется достойно зарабатывать своим трудом, как любому нормальному человеку.
– Все-таки это очень особая карьера — музыкальная, человек во всем себе отказывает. И на всю жизнь, может не очень и обеспеченную!
– Нет, я бы не сказал, что нужно во всем себе отказывать. Человек сам выбирает, хочет ли он жить в искусстве. Если да, то это вся жизнь. Мне всегда смешно, когда спрашивают: «А какое у вас хобби?» Какое хобби? Я живу в музыке, понимаете? Если почитать историю, то можно увидеть, что иногда не просто большие артисты, а великие композиторы жили в крайней нужде. Сейчас мир без этих крайностей. А было время, когда большой артист равнялось дорогой артист. Это в очень большой степени влияние Голливуда, где уровень артиста вообще одно время определялся по его гонорару. В классической музыке все-таки не должно быть так. Хотя это совершенно адский труд и, конечно, очень хочется получить за этот труд соответствующее вознаграждение.
– Вы выступаете на корпоративах и частных мероприятиях?
– Я не против любого концерта, если нас приглашают сыграть в адекватной обстановке. Мне кажется, что не стоит, например, играть под еду. Что, к сожалению, часто бывает. Играть на таких частных собраниях для меня удивительно — получается, что и обед испорчен, и концерт. Эти две вещи надо всегда разделять. Вот, пожалуй, единственное мое пожелание для подобных случаев.
– Для некоторых исполнителей корпоративные мероприятия — важная часть доходов. А для вас как?
— Нет, у меня такого нет. Я не могу сказать, что этого никогда не бывает. Но все же так редко, что это скорее исключение.
– А у вас есть какой-то управляющий, который вашими делами занимается — расписанием, финансами?
– Финансами — нет. У меня есть директор оркестра и моя помощница-менеджер. Но я работаю с очень многими в мире, у меня нет эксклюзива. Раньше было принято, чтобы был один генеральный менеджер, у меня сейчас такого нет.
– У вас фиксированный гонорар или он обсуждается?
— Обсуждается в каждом случае. Как у любого нормального артиста, он бывает больше или меньше, если концерт мне интересен с творческой стороны. Сейчас жизнь стала гибкая.
– Насколько утомительна жизнь солиста, когда вы себе большую часть времени не принадлежите, когда все расписано по минутам, по часам? Нет ли желания переменить что-то в этом графике?
— Скорость жизни зависит от желания человека и, конечно, от его возможностей. И большое количество концертов и спектаклей обычно не возникает в один день. У меня все постепенно нарастало.
– Случай, когда прилетаешь в город и не можешь понять, какой день и куда прилетел, не ваш?
– Я считаю, что так жить бессмысленно. Конечно, хочется сделать возможно больше. Но есть музыканты, которые даже не обсуждают, если между концертами уже перерыв меньше 2–3 дней. А есть музыканты, которые любят, когда у них 2–3 концерта в день.
– А у вас примерно сколько концертов?
– У меня по-разному, очень трудно подсчитать, потому что бывают сольные концерты, когда я играю один, даже без рояля. А бывают оперные спектакли, которые необходимо долго и много репетировать и на общение с певцами и с оркестром уходит значительно больше времени. Был период, когда я очень много играл, до 160 концертов в год. Но сейчас, оттого что мне интересно жить в двух профессиях, число выступлений сократилось. И потом сейчас очень редко бывают такие длинные гастроли, как раньше, когда приезжаешь в Японию и 15 раз за 16 дней играешь концерт Чайковского. Сейчас чаще всего максимум несколько концертов.
«Никогда не было таких возможностей для эрзаца!»
– Снижение качества оркестров — это российская проблема или общемировая?
– Общемировая, конечно. Но в России этот процесс идет быстрее, хотя наши оркестры могли бы играть лучше, потому что есть хорошая школа.
– Если говорить об исполнительской культуре и русской школе скрипичного мастерства, то как вам кажется, она держит свое реноме? Школа, которая с Леопольда Ауэра (1845–1930, русский скрипач венгерско-еврейского происхождения, один из основателей русской скрипичной школы) более 100 лет назад началась?
– Русская школа в какой-то степени наследница великой французской скрипичной школы. Но действительно с Ауэром связан невероятный всплеск. Потом он уехал со своим классом в Америку, и замечательная американская школа в очень большой степени наше дочернее предприятие. Но мы, конечно, много потеряли. Но просто, как мне кажется, все остальные потеряли не меньше. Поэтому баланс сил сохранился. Хотя, конечно, нам очень трудно, и поддержание уровня требует сейчас очень больших и серьезных вложений. Образование – самая важная и самая хрупкая вещь. Она первой идет вниз и последней наверх. Это очень долгосрочное дело. Нормальный путь скрипача с момента, как человек поступает в школу, и до момента, когда он заканчивает консерваторию, – 16 лет. Если сейчас что-то очень быстро и эффективно поменять, то результат будет в 2036 г. А мы любим посмотреть сначала, как все разрушается, потом вдруг начинаем восстанавливать.
– Уровень исполнителей-звезд тоже упал и многие стали популярными за счет рекламы и раскрутки?
– Да, но я думаю, что так было всегда. Хотя никогда не было таких возможностей для эрзаца, для людей неталантливых и людей, не имеющих к искусству никакого отношения, как сейчас. Финансово-экономические рельсы, на которые музыка пытается встать, не живут по законам искусства. Сейчас становится понятно, что не получается управлять музыкой с позиций финансового менеджмента. Мне кажется, даже те люди, которые именно так и делают, понимают, что что-то идет сильно не так. Разговоры про самоокупаемость симфонических оркестров или оперы вообще абсурд. Ни один оперный театр на самоокупаемости существовать просто не может! Но из-за того, что деньги стали ставить на первое место, перестали быть внимательными к профессионализму, индивидуальности, таланту артиста. Поэтому понятия «большой артист» и «известный артист» перестали быть синонимами. Еще Ахматова говорила: «Быть знаменитым некрасиво». В усиленном пиаре всегда есть момент чего-то не очень достойного.
– Публика разберется в подлинности дарования или ее можно обмануть?
– Сейчас можно обмануть. Что и происходит, причем во всем мире. Как для музея главным стал критерий посещаемости. Но разве посещаемость как-то говорит о значительности музея? И в музыке стали обращать внимание на цифры. В концертных залах появился очень большой процент публики, которая ходит на концерты, «присутствует», но в искусстве ничего не понимает. И сейчас, как никогда, важно воспитание, образование и просвещение, потому что в зале всегда много людей, которые пришли в первый раз. Им сказали, что это большой музыкант, а им не нравится. И поэтому они в следующий раз пойдут на футбол.
И еще мне кажется, что есть группы людей, занимающихся организацией, так скажем, музыкальных процессов, которые занимаются таким обманом сознательно. Потому что людьми, которые мало понимают, проще управлять. Но это тупиковый путь, музыке нужна настоящая публика. Какая была, например, в Петербурге во время моей молодости. Я же вырос на концертах Евгения Мравинского — и я видел, что творилось в зале, как реагировали люди. Это же была высокоинтеллектуальная публика, они видели Товстоногова, слушали Светланова. Они могли оценить, что происходит [на сцене]. А сейчас людей, которые могут ответственно сказать, что понимают, что происходит, очень мало. И их не очень хотят слушать.
– Эта депрессия в слушательском качестве мешает качеству концерта?
– Нет. Потому что все равно есть некоторое число людей, которые точно любят и понимают музыку. Их немного, но все-таки любое искусство элитарно. И музыкальное тоже. Оно было таким и лет 400 назад, когда создавалось в том виде, в каком существует сейчас. Оно ведь достаточно молодое по меркам истории. И то, что сейчас происходит (я имею в виду с искусством, с появлением новых музыкальных сочинений, больших талантов и т. д.), может быть закатом или остановкой. Но все равно музыка — это целый мир, очень интересный и глубокий, который надо людям показывать.
Мы говорили про онлайн. Но никакие записи не заменяют живых выступлений для тех, кто их любит и понимает. Поэтому люди ходят в залы – они любят момент воссоздания музыки у них на глазах. И они любят не только слышать, но и видеть, что происходит. Любят общение с артистом. И пусть таких людей будет меньше, но они будут более качественные. Классическая музыка не массовое искусство и таким быть не должно. Чтобы насладиться «Пиковой дамой» Чайковского или скрипичным концертом Брамса, нужно быть подготовленным. Язык музыки нужно знать. Человек, который пришел на концерт в первый раз, не так полно ощущает удовольствие, потому что для него это внове.
Может быть, после эпидемии люди будут больше ценить живую концертную жизнь. Казалось ведь, что это будет всегда: в любой момент купил билет в театр или на концерт и пришел. А сейчас выясняется, что на самом деле все достаточно хрупко. Как и вся наша жизнь.
– Вы сказали, что самоокупаемость оперы — это абсурд. Но бродвейские мюзиклы тоже всегда дорогостоящий проект – а самоокупаемы. А опера живет на спонсорские деньги, попечительские или государственные. Почему так?
– Мюзикл – это опера для людей с ограниченными возможностями. Это искусство по своей сути массовое. И оно создается в хорошем смысле на потребу публике, поэтому должно быть понятно, доступно и нравиться. А искусство оперы не может создаваться на потребу публике. Все известные вершины оперы (Вагнер, Чайковский, Верди) – это высочайшие создания человеческого духа. И публика, которая приходит на оперу, хочет что-то увидеть, до чего-то дотянуться. Любое серьезное исполнение для публики еще момент сопереживания. И поскольку это высокое искусство, его нельзя оценивать только количественными показателями и тем, сколько пришло людей. И еще опера – это синтез очень многого: и режиссер, и постановка, и оркестр, и солисты. Если вы поставили «Травиату», может ли она пройти 200 раз за сезон? Видите, вам смешно. Вот и ответ.
«Либо ты хороший музыкант, либо хороший менеджер»
– Как к вам пришло понимание, что надо быть дирижером? Это же особая профессия. Хотя есть примеры чрезвычайно удачного перехода от исполнительского к дирижерскому, Артуро Тосканини тот же, но все-таки…
– Мне, к счастью, не надо было делать такой выбор, я никуда не переходил. Я же продолжаю играть, я очень давно живу 50 на 50. Но мне очень быстро стало ясно, что я не хочу быть дирижерствующим солистом. Я понял, что дирижер — это совершенно другая профессия, что ей надо учиться и что мне в ней не будет интересно, если я ничего не умею. И я учился, работал в театре, регулярно дирижировал спектакли, а опера для дирижера — это невероятная школа.
– А в чем разница между дирижером симфоническим и в оперном спектакле?
– Разница в том, что симфонический оркестр может (а если это настоящий оркестр, то и должен) играть на соответствующем уровне, кто бы перед ним ни стоял. Есть знаменитая поговорка: что бы он ни дирижировал, мы играем Пятую симфонию Чайковского. Или как в Берлинской филармонии, где на вопрос «Как был этот дирижер?» они отвечают «Как обычно». Дирижер выходит, оркестр играет. А в опере если дирижер не профессионал и если он чего-то не сделал или чего-то не показал, то может просто все остановиться. Поэтому в опере людей, которые вольно относятся к профессии, почти нет. Большие дирижеры как, например, Герберт фон Караян, росли и воспитывались в опере.
— Мы уже поговорили о популярности некоторых исполнителей и хотели спросить вас о феномене, например, Теодора Курентзиса. Билеты на его концерты стоят бешеных денег, но ведь его мастерство, мягко говоря, небесспорно…
– Я бы не хотел обсуждать коллегу. Сейчас такое время, что с помощью финансово-менеджерских усилий, с помощью СМИ и определенных вложений можно сделать практически все, что угодно. Поэтому у многих из тех, кто сейчас очень популярен, есть нечто общее с эстрадными артистами. Сильное расширение — это ведь и утрата высоты тоже. Но человек сам решает, как ему жить. Что он хочет? Как он тратит свою жизнь? На что? Но, как мы знаем по нашей эстраде, выступать могут и люди, у которых нет голоса и нет слуха. Совсем. Но существуют технологии. Они перекинулись на все виды публичной деятельности, в том числе и на классическую музыку. Почему именно дирижер? Потому что на скрипке или на рояле все-таки надо что-то сыграть. А дирижер ведь никаких звуков не производит. И многим очень поверхностно знакомым с профессией кажется, что это очень легко. Ну а что, взял палочку и машет. На самом деле большая часть профессии лежит в нематериальной сфере, ее нельзя потрогать, нельзя ощутить. Но люди, которые любят и понимают музыку, знают, что по дирижеру видно, о чем он думает. Мне вообще кажется, что дирижирование — профессия второй половины жизни. Поэтому я бы на месте многих за дирижерскую палочку не брался.
– Некоторые даже без палочки обходятся.
– Иногда без палочки играют уже из-за возраста, как Евгений Светланов, который большую часть жизни играл с палкой и только совсем поздно перестал. Но в конце концов, с палкой или без палки — это не важно. А важно то, что мы знаем примеры, когда эстрадных артистов не очень волнует, что о них думают. И в отношении эстрадных артистов меня еще очень умиляет и удивляет, сколько людей жаждут быть обманутыми. Это новая категория публики, которая, мне кажется, знает, что им просто включают радио, в то время как человек на сцене просто открывает рот и танцует. Они платят огромные деньги, чтобы быть обманутыми. Может быть, некоторые дирижеры тоже проблема большой части публики, которая жаждет быть обманутой.
Но каждый сам выбирает свой жизненный путь. Большие деньги, мне кажется, большое искушение для артиста. Но это вещи, которые не идут вместе. И голова устроена так, что, если человек думает о музыке, об интерпретации, он не может одновременно думать о финансах. Либо ты хороший музыкант, либо ты хороший менеджер.
– Существуют дирижеры-репетиторы, подготавливающие оркестр, к которому приезжает приглашенная звезда и играет 2–3 концерта. Насколько сложно входить в контакт с не своим оркестром, который подготовлен другим дирижером?
– Я считаю, что репетитор, который за тебя подготавливает оркестр, — это как минимум совершенно бесполезно. А то и вредно. Потому что он будет делать, как он считает нужным. У меня дирижеров-репетиров нет. С профессиональным оркестром никогда никаких проблем не бывает. Это высокопрофессиональная сфера, а дирижирование — это искусство молчаливое. Перефразируя Рихарда Штрауса, чем больше дирижер умеет, тем меньше он говорит. (А Рихард Штраус говорил, что чем больше дирижер умеет, тем меньше он машет.) Если есть определенный уровень мастерства (мы не говорим в данном случае об интерпретации, интересно-неинтересно — это немного другое), то любой профессиональный оркестр дирижера понимает моментально.
– Можно сравнить хороший оркестр с инструментом, который вы держите в руках?
– Нет. Профессионализм и талант дирижера заключаются в том, чтобы заставить оркестр играть, как ты хочешь. Инструмент — тоже, но инструмент можно взять и играть. А для оркестра очень важно, чтобы музыканты считали, что это они хотят так играть. У тебя от 50 до 100 человек совершенно разных людей, с разными возможностями, разными судьбами, разной профессиональной подготовкой и разными характерами. А ты ничего не делаешь, просто машешь руками. В этом и состоит таинственность профессии дирижера. Поэтому я и говорю, что ее основная часть лежит не в материальной сфере. Я надену красную рубашку – и оркестр будет звучать иначе. Но поскольку этого не видно, это невозможно потрогать, это, видимо, и делает профессию такой притягательной для тех, кто хочет манипулировать. Для шарлатанов, проще говоря. И мы, к сожалению, с этим иногда сталкиваемся.
Самое главное, что дирижерский результат очень неконкретен. Ты напрямую зависишь от музыкантов, которые сидят перед тобой. Со средним оркестром вряд ли возможно добиться желаемых результатов. И именно этим объясняется, что все великие дирижеры, в том числе те, кого я все время вспоминаю, Светланов и Мравинский, главным образом работали со своим оркестром. Который их очень хорошо понимал и с которым они могли добиться очень высоких результатов. А когда ты приезжаешь, играешь на скрипке, ты ни от чего не зависишь. И там результат очевиден большему количеству людей, чем работа дирижера. Как говорил отец Рихарда Штрауса, а он был баварским валторнистом, «когда режиссер ползет к своему месту в яме, мы уже все про него знаем». Это правда так. Оркестранты сразу все чувствуют про дирижера, сразу все знают. Хотя, к сожалению, сейчас наступает такое время, что даже оркестранты не всегда могут определить его уровень. А что уж говорить о публике. Я еще раз повторю: чем больше дирижер умеет, тем меньше он машет. А мы сейчас часто видим очень красивую физкультуру. Человек занят такой потрясающей аэробикой. Чувствуется, как он работает, как машет волосами. Но для оркестра все это совершенно бессмысленно. Зато публике нравится — он весь такой увлеченный и т. д. И сейчас, к сожалению, вот такие молоденькие дирижеры возглавляют даже серьезные оркестры. Сейчас такое время, когда оркестры часто значительно сильнее, чем дирижеры, которые перед ними стоят. Но это временное явление, ситуация будет меняться, хотя и не ясно, в какую сторону. Посмотрим. Может быть, следующее поколение дирижеров будет еще менее интересным.



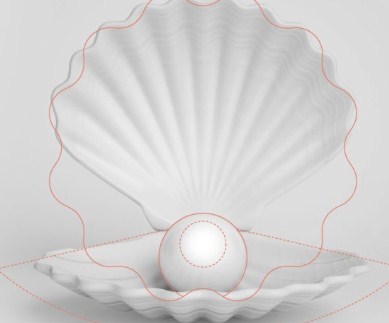
Больше историй
Коллекции Tory Burch
Как сохранить матовый маникюр до коррекции
Как часто следует заниматься спортом?